

В конце июля 1992 года
в Новосибирск приезжал один
из крупнейших поэтов XX века Андрей Вознесенский
в Новосибирск приезжал один
из крупнейших поэтов XX века Андрей Вознесенский
Это было не первое его посещение нашего города
Много лет назад в трудные для него времена Андрей Андреевич укрывался здесь от разгневанных советских властей.
Помните стихотворение «Слоняюсь под Новосибирском…»?
Июльская встреча стала для нас, «ярильцев», особым, не имеющим себе равных, событием.
Знаменитый поэт, ученик Бориса Пастернака, собеседник Мартина Хайдеггера, Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо, Дмитрия Шостаковича, Алена Гинзберга, Боба Дилана, братьев Кеннеди, согласился дать интервью юным корреспондентам гимназической многотиражной газеты Леониду Александровскому, Виктору Ершову и Роману Олейниченко.
Помните стихотворение «Слоняюсь под Новосибирском…»?
Июльская встреча стала для нас, «ярильцев», особым, не имеющим себе равных, событием.
Знаменитый поэт, ученик Бориса Пастернака, собеседник Мартина Хайдеггера, Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо, Дмитрия Шостаковича, Алена Гинзберга, Боба Дилана, братьев Кеннеди, согласился дать интервью юным корреспондентам гимназической многотиражной газеты Леониду Александровскому, Виктору Ершову и Роману Олейниченко.
Обещанные поэтом 10 минут превратились в большую интересную беседу о современной культуре, в заключение которой мэтр подарил интервьюерам свой, тут же набросанный пером, портрет с трогательной надписью. Кроме того, редакция «Ярила» получила разрешение перепечатывать любые произведения Андрея Андреевича, что для нас, конечно же, большая честь, ибо творчество поэта является одной из вершин современной мировой литературы.
Осуществляя настоящую публикацию, «ярильцы» от имени всего «гимназиатства» сорок второй школы выражают Андрею Андреевичу Вознесенскому глубокую благодарность и надеются на продолжение сотрудничества.
Осуществляя настоящую публикацию, «ярильцы» от имени всего «гимназиатства» сорок второй школы выражают Андрею Андреевичу Вознесенскому глубокую благодарность и надеются на продолжение сотрудничества.
Такова была редакторская врезка, которую здесь мы даем лишь
с косметической правкой. Далее следует интервью, републикуемое без изменений. Поэтому читателю следует помнить о том, что тридцать лет назад проблемы у нашего общества были иными, нежели сегодня, хотя, признаем честно, у русской литературы главной всегда была и, вероятно, останется проблема взаимоотношений творческой личности и власти.
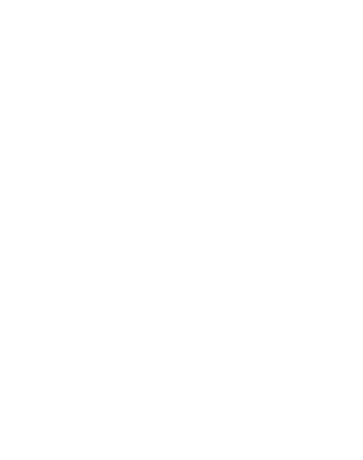
Леонид Александровский
Виктор Ершов
Виктор Ершов
Корр. Ваше отношение, Андрей Андреевич, к тому, что русская литература впервые за свою почти трёхвековую историю перестала быть, с одной стороны, широковещательным рупором официоза, с другой — косвенным убежищем свободомыслия и очистилась от какой бы то ни было идейной шелухи. Уволенная с должности трибуна, какую нишу должна занять литература в информационно полноценном обществе? И вообще, согласны ли Вы с Набоковым в том, что литература прежде всего не «что», а «как»?
А.В. Я думаю, что сначала мы должны пережить кризисное состояние общества (и литературы тоже), ту ломку, в которой мы сейчас находимся. Цензура, с которой мы боролись, снимавшая либо целую книгу, либо какое-то стихотворение, но не посягавшая на литературу в целом, сменилась новым монстром — коммерцией, монстром, который может уничтожить всю литературу. Это — новая ситуация, о которой мы не думали, но это, можно сказать, международная проблема, в нашем варварском обществе приобретающая варварские черты.
Я за то, чтобы литература стала литературой. Человек субъективный, я говорю всегда со своей колокольни. Вы знаете, я всегда много занимался политикой. Приходилось делать вещи митинговые, политические…
А.В. Я думаю, что сначала мы должны пережить кризисное состояние общества (и литературы тоже), ту ломку, в которой мы сейчас находимся. Цензура, с которой мы боролись, снимавшая либо целую книгу, либо какое-то стихотворение, но не посягавшая на литературу в целом, сменилась новым монстром — коммерцией, монстром, который может уничтожить всю литературу. Это — новая ситуация, о которой мы не думали, но это, можно сказать, международная проблема, в нашем варварском обществе приобретающая варварские черты.
Я за то, чтобы литература стала литературой. Человек субъективный, я говорю всегда со своей колокольни. Вы знаете, я всегда много занимался политикой. Приходилось делать вещи митинговые, политические…
— «Лонжюмо», скажем?..
— Да… Или, к примеру, стихотворение «Уберите Ленина с денег». Несмотря на присутствие имени Ленина, оно оказалось наиболее опасным. Я не мог напечатать его ни в одном сборнике. А сейчас — могу, но не хочу.
— Оно приобрело иной смысл?.. Или не хотите «попасть в струю», как сказано в Вашем стихотворении «Ответ на записку»:
Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенщикове и Шагале,
О Гавеле и о Вишневской Гале,
Литве или Мемориале
Писал, когда не разрешали.
Я не хочу «попасть в струю».
— Да, не хочу «попасть в струю». Так что сейчас, наконец, у нас литература начинает заниматься литературой. Вот почему я стал сочинять видеомы. Они как раз представляют собой чистую литературу. Это как бы биология стиха, биология творчества, то есть как раз то, в русле чего идет вся мировая литература. И я думаю, что мы теперь что-то свое скажем и продиктуем; сейчас нужно только переболеть, и придет тот ренессанс, которого мир еще не видел, вернется то. к чему наши литература и искусство были готовы в двадцатые годы, но что из-за сталинских репрессий не состоялось.
— То есть, мы поняли, что с набоковским «не что, а как?» Вы согласны?
— Да. конечно.
— Какой автор, на Ваш взгляд, является наиболее точным зеркалом XX века в его глубинной сущности7 Кто постиг его тайный смысл и донес до читателей?
— Если оставить только одну книгу, то, несмотря на ее несколько консервативную форму, это. по-моему, будет «Мастер и Маргарита».
— Почему?
— Потому, что, согласно своим видеомам, я мистически отношусь к именам.
— «Булгаков — Бог ГУЛАГа», как в Вашей статье?
— Да. это Бог эпохи ГУЛАГа. То есть, его, Булгакова, Бог — это Бог, увиденный глазами ГУЛАГа, и тоска по Богу. В то время это было опасней, чем создать просто антисоветскую вещь, потому что поставить под сомнение всю атеистическую нашу концепцию — это страшнее. Ведь здесь идет разговор о вечном и в то же время присутствует все это, вeсь этот сюрреализм, МАССОЛИТ, все это сочетание гротеска, иронии, хохмы, скрытой и явной сатиры… Эго гениальная книга, хотя… вы, наверное, думали, я скажу «Доктор Живаго»?..
— Нет, мы так не думали.
— Спасибо за интуицию.
— Путем элементарной арифметики легко установить, что эпитет «хрустальный» и его многочисленные однокоренные варианты наиболее излюблены Вами и В. Набоковым. Каковы в общих чертах Ваши творческие отношения с «двуязыкой бабочкой мировой культуры»?
— Это прежде всего эксперимент языка. Это язык в чистом виде, язык, сохраненный неожиданно. Когда я в свое время попал в Австралию, встретил там очень интересный русский язык. Вообще, если искать старый петербургский язык, нужно ехать не на Запад, а только в Австралию. Дело 8 том, что когда русские (и Набоков в том числе, но Набоков — феномен, о нем особый разговор) после Октября попадали на Запад, то наш язык там как бы смешивался с европейскими: с немецким, французским… То же происходило и когда они попадали в Америку. Австралийская же эмиграция — это та часть беженцев, которая оказалась сначала в Китае, в Харбине. С китайским же языком наш язык, естественно, не смешивался и оставался дистиллированным. Потом, когда Советская Армия оккупировала Китай, то все эти эмигранты оказались в Австралии. Таким образом, именно там и остался тот хрустальный русский, санкт-петербургский язык. И таким же сохранил этот язык Набоков, порой кажущийся даже немножко стеклянным…
— Хрустальным…
— Да. И потом вот он в своем творчестве совершенно над политикой, хотя в жизни был прямым антисоветским человеком.
Как писал он в своем стихотворении 1944 года,
«Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой.
немого рабства — нет, о, нет,
ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой,
увольте, я ещё поэт".
Да. Да. Но вот лично с Набоковым я боялся встретиться. Он был моим кумиром. А бабочка, когда берешь ее в руки, погибает, ее пыльца осыпается. Мне не хотелось этого. И Набоков так и остался для меня высоким олимпийцем. (Подробнее об этом читатель может узнать из эссе А. Вознесенского «Геометридка,
или Бабочка Набокова". — Ред.).
— Да… Или, к примеру, стихотворение «Уберите Ленина с денег». Несмотря на присутствие имени Ленина, оно оказалось наиболее опасным. Я не мог напечатать его ни в одном сборнике. А сейчас — могу, но не хочу.
— Оно приобрело иной смысл?.. Или не хотите «попасть в струю», как сказано в Вашем стихотворении «Ответ на записку»:
Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенщикове и Шагале,
О Гавеле и о Вишневской Гале,
Литве или Мемориале
Писал, когда не разрешали.
Я не хочу «попасть в струю».
— Да, не хочу «попасть в струю». Так что сейчас, наконец, у нас литература начинает заниматься литературой. Вот почему я стал сочинять видеомы. Они как раз представляют собой чистую литературу. Это как бы биология стиха, биология творчества, то есть как раз то, в русле чего идет вся мировая литература. И я думаю, что мы теперь что-то свое скажем и продиктуем; сейчас нужно только переболеть, и придет тот ренессанс, которого мир еще не видел, вернется то. к чему наши литература и искусство были готовы в двадцатые годы, но что из-за сталинских репрессий не состоялось.
— То есть, мы поняли, что с набоковским «не что, а как?» Вы согласны?
— Да. конечно.
— Какой автор, на Ваш взгляд, является наиболее точным зеркалом XX века в его глубинной сущности7 Кто постиг его тайный смысл и донес до читателей?
— Если оставить только одну книгу, то, несмотря на ее несколько консервативную форму, это. по-моему, будет «Мастер и Маргарита».
— Почему?
— Потому, что, согласно своим видеомам, я мистически отношусь к именам.
— «Булгаков — Бог ГУЛАГа», как в Вашей статье?
— Да. это Бог эпохи ГУЛАГа. То есть, его, Булгакова, Бог — это Бог, увиденный глазами ГУЛАГа, и тоска по Богу. В то время это было опасней, чем создать просто антисоветскую вещь, потому что поставить под сомнение всю атеистическую нашу концепцию — это страшнее. Ведь здесь идет разговор о вечном и в то же время присутствует все это, вeсь этот сюрреализм, МАССОЛИТ, все это сочетание гротеска, иронии, хохмы, скрытой и явной сатиры… Эго гениальная книга, хотя… вы, наверное, думали, я скажу «Доктор Живаго»?..
— Нет, мы так не думали.
— Спасибо за интуицию.
— Путем элементарной арифметики легко установить, что эпитет «хрустальный» и его многочисленные однокоренные варианты наиболее излюблены Вами и В. Набоковым. Каковы в общих чертах Ваши творческие отношения с «двуязыкой бабочкой мировой культуры»?
— Это прежде всего эксперимент языка. Это язык в чистом виде, язык, сохраненный неожиданно. Когда я в свое время попал в Австралию, встретил там очень интересный русский язык. Вообще, если искать старый петербургский язык, нужно ехать не на Запад, а только в Австралию. Дело 8 том, что когда русские (и Набоков в том числе, но Набоков — феномен, о нем особый разговор) после Октября попадали на Запад, то наш язык там как бы смешивался с европейскими: с немецким, французским… То же происходило и когда они попадали в Америку. Австралийская же эмиграция — это та часть беженцев, которая оказалась сначала в Китае, в Харбине. С китайским же языком наш язык, естественно, не смешивался и оставался дистиллированным. Потом, когда Советская Армия оккупировала Китай, то все эти эмигранты оказались в Австралии. Таким образом, именно там и остался тот хрустальный русский, санкт-петербургский язык. И таким же сохранил этот язык Набоков, порой кажущийся даже немножко стеклянным…
— Хрустальным…
— Да. И потом вот он в своем творчестве совершенно над политикой, хотя в жизни был прямым антисоветским человеком.
Как писал он в своем стихотворении 1944 года,
«Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь
со всею мерзостью, жестокостью и скукой.
немого рабства — нет, о, нет,
ещё я духом жив, ещё не сыт разлукой,
увольте, я ещё поэт".
Да. Да. Но вот лично с Набоковым я боялся встретиться. Он был моим кумиром. А бабочка, когда берешь ее в руки, погибает, ее пыльца осыпается. Мне не хотелось этого. И Набоков так и остался для меня высоким олимпийцем. (Подробнее об этом читатель может узнать из эссе А. Вознесенского «Геометридка,
или Бабочка Набокова". — Ред.).
— Ваш прустовский видеом увлекает «поисками утраченной буквы», о Кафке Вы также где-то обмолвились. Каковы Ваши отношения (и существуют ли они?) с третьим классиком европейского модернизма Джеймсом Джойсом? Соотносите ли Вы собственные двуязычные опыты с языковой полифонией «Поминок по Финнегану»?
(Классики европейского модернизма: Марсель Пруст (1871−1922), французский писатель, Франц Кафка (1883−1924), австрийский писатель, Джеймс Джойс (1882 — 1941), ирландский писатель, создатель литературного течения, так называемого «потока сознания». — Ред.).
(Классики европейского модернизма: Марсель Пруст (1871−1922), французский писатель, Франц Кафка (1883−1924), австрийский писатель, Джеймс Джойс (1882 — 1941), ирландский писатель, создатель литературного течения, так называемого «потока сознания». — Ред.).
— Я думаю, что Джойс — это то, к чему мы ещё придем. Помимо двуязыкости в «Улиссе» огромный интеллектуализм и закодирование всего.
— Скажите, визуализация Вашего творчества в последнее время — художественная констатация недостаточности слова в отображении современного бытия или форсированное воплощение идеи в непосредственный зрительный образ? И вообще, «видеофикация» Вашего искусства — расширение изобразительного поля или скукоживание словесного тумана в однозначный объект?
— Когда мы говорим о слове, как о записанной мысли, это не совсем точно. Помните, в Евангелии от Иоанна: «Сначала было Слово»? Так? Посмотрим теперь, как Фауст у Гете переводил это Евангелие: «Сначала было дело, мысль…». Я думаю, что слово — это скорее все-таки образ. То, что мы называем «словом», дано в ощущениях, иногда словесных, иногда подсловесных, т. е. мы идем к корню всего, причем совсем не обязательно в том печатном виде, как это всегда бывает. Теперь боятся, что вот. ах, вместе с клипами идет стандартизация. Вот вы, новое поколение, так не считаете?
— Конечно, нет!
— Так вот, когда Гутенберг изобрел печатную машину, все стали орать: ах, как плохо, что в рукописи нет руки… Стали бояться, что старая книжная культура пропадет… Так и здесь. Посмотрим, может, книга и пропадет, может, это будет движущаяся книга.
— Уже есть какие-то визуальные книги, с запахами разными.
— Конечно, конечно. Это новое ощущение, не надо этого бояться.
— У читателя должен создаваться свой образ, но и как видит автор — это тоже всем интересно.
— Да. И потом важно, что вкладывает автор, какова его личность, а форма — она придет… Что же до видео, я думаю, что в нашей безграмотной варварской стране даже прямолинейные клипы…
— Например, в стиле рэп?
— Рэпа у нас ещё мало, но просто клипы поп-музыки, часто противные, однако они заставляют миллионы людей следить за изменением изобразительного ряда, в зрителях происходит ломка тривиального видения мира, что важнее, чем если бы им дали новую информацию, антисоветскую, просоветскую ли, то есть плоскостную. В общем, идет изменение восприятия. И когда полуграмотные колхозники слушают рок, XXI век в них уже входит. И может быть, поэтому когда-то из их среды появится новый Ломоносов.
— Или Дорн, Леннон?..
— Или Леннон. Кроме того, клипы включили в себя достижения живописи XX века.
— Например, идею Дали о перетекании материи из одной формы в другую…
— Абсолютно, именно. Как ни странно, проходит время, люди. Дали остаётся. Именно он что-то схватил: предметность и одновременно сюр.
— Андрей Андреевич, нам кажется, что Ваша поэтика энергетически подключена к футуристическому силовому полюсу, тогда как общий эстетический стержень, Ваша творческая философия преемственны акмеизму. Что ближе Вам как художнику — «Облако в штанах» или «Романтические цветы»?
(Футуризм — от латинского futurum — будущее, авангардистское направление в европейском искусстве 10-х — 20-х гг. XX в., отрицавшее традиционную культуру, противопоставлявшее ей эстетику машинной индустрии и большого города, разрушавшее (особенно в поэзии) даже естественный язык. Крупнейшие представители русского футуризма В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Каменский, И. Северянин. Акмеизм — от греческого акме — высшая (степень чего-либо, цветущая сила, — течение в русской поэзии 1910-х гг. Лидеры акмеизма — Н. Гумилев, О. Манделыптам, А. Ахматова, М. Кузмин и др. Акмеизм провозгласил освобождение поэзии от символических призывов к «идеальному», возврат к материальному миру, предмету, точному слову. «Облако в штанах» — первая поэма В. Маяковского. «Романтические цветы» — третий сборник стихов Н. Гумилева. — Ред.).
— Скажите, визуализация Вашего творчества в последнее время — художественная констатация недостаточности слова в отображении современного бытия или форсированное воплощение идеи в непосредственный зрительный образ? И вообще, «видеофикация» Вашего искусства — расширение изобразительного поля или скукоживание словесного тумана в однозначный объект?
— Когда мы говорим о слове, как о записанной мысли, это не совсем точно. Помните, в Евангелии от Иоанна: «Сначала было Слово»? Так? Посмотрим теперь, как Фауст у Гете переводил это Евангелие: «Сначала было дело, мысль…». Я думаю, что слово — это скорее все-таки образ. То, что мы называем «словом», дано в ощущениях, иногда словесных, иногда подсловесных, т. е. мы идем к корню всего, причем совсем не обязательно в том печатном виде, как это всегда бывает. Теперь боятся, что вот. ах, вместе с клипами идет стандартизация. Вот вы, новое поколение, так не считаете?
— Конечно, нет!
— Так вот, когда Гутенберг изобрел печатную машину, все стали орать: ах, как плохо, что в рукописи нет руки… Стали бояться, что старая книжная культура пропадет… Так и здесь. Посмотрим, может, книга и пропадет, может, это будет движущаяся книга.
— Уже есть какие-то визуальные книги, с запахами разными.
— Конечно, конечно. Это новое ощущение, не надо этого бояться.
— У читателя должен создаваться свой образ, но и как видит автор — это тоже всем интересно.
— Да. И потом важно, что вкладывает автор, какова его личность, а форма — она придет… Что же до видео, я думаю, что в нашей безграмотной варварской стране даже прямолинейные клипы…
— Например, в стиле рэп?
— Рэпа у нас ещё мало, но просто клипы поп-музыки, часто противные, однако они заставляют миллионы людей следить за изменением изобразительного ряда, в зрителях происходит ломка тривиального видения мира, что важнее, чем если бы им дали новую информацию, антисоветскую, просоветскую ли, то есть плоскостную. В общем, идет изменение восприятия. И когда полуграмотные колхозники слушают рок, XXI век в них уже входит. И может быть, поэтому когда-то из их среды появится новый Ломоносов.
— Или Дорн, Леннон?..
— Или Леннон. Кроме того, клипы включили в себя достижения живописи XX века.
— Например, идею Дали о перетекании материи из одной формы в другую…
— Абсолютно, именно. Как ни странно, проходит время, люди. Дали остаётся. Именно он что-то схватил: предметность и одновременно сюр.
— Андрей Андреевич, нам кажется, что Ваша поэтика энергетически подключена к футуристическому силовому полюсу, тогда как общий эстетический стержень, Ваша творческая философия преемственны акмеизму. Что ближе Вам как художнику — «Облако в штанах» или «Романтические цветы»?
(Футуризм — от латинского futurum — будущее, авангардистское направление в европейском искусстве 10-х — 20-х гг. XX в., отрицавшее традиционную культуру, противопоставлявшее ей эстетику машинной индустрии и большого города, разрушавшее (особенно в поэзии) даже естественный язык. Крупнейшие представители русского футуризма В. Маяковский, В. Хлебников, Д. Бурлюк, В. Каменский, И. Северянин. Акмеизм — от греческого акме — высшая (степень чего-либо, цветущая сила, — течение в русской поэзии 1910-х гг. Лидеры акмеизма — Н. Гумилев, О. Манделыптам, А. Ахматова, М. Кузмин и др. Акмеизм провозгласил освобождение поэзии от символических призывов к «идеальному», возврат к материальному миру, предмету, точному слову. «Облако в штанах» — первая поэма В. Маяковского. «Романтические цветы» — третий сборник стихов Н. Гумилева. — Ред.).
— Увы, я опять буду старомоден. «Облако…», наверное, ближе. Ведь, если предвзято посмотреть, что дал XX век, мы можем его ненавидеть, вспомнив, что случилось потом с Маяковским.
— Политика не имеет значения…
— Так вот, XX век — прежде всего авангард. Умирает век. и теперь это уже совершенно очевидно: ничего, кроме авангарда, он не дал.
— Авангардное в смысле антиклассическое?..
— Антиклассическое, взрывное, агрессивность, все ее плюсы и минусы, фашизм и коммунизм — всё здесь намешано, но это наше время потому и — «Облако», независимо от того, кем стал потом партийный Маяковский. Оно ведь и работало позже и против партийности, ибо художник выше, чем политика.
— Андрей Андреевич, скажите, Ваш замечательный «крестиковый эпос» — попытка найти элементарную структурную доминанту в «рапсодии распада» современности или только серия изящных постмодернистских этюдов об авантюрных похождениях и превращениях религиозного знака в бредовой действительности?
(Фрагменты «Из жизни крестиков» Андрея Вознесенского):
Шел крестик по дорожке.
Видит, толпа крестиков на ветке.
— Вы районное совещание крестиков?
— Нет, мы — сирень.
Загрустил крестик. Только
развёл руками. Пошёл дальше.
Идёт, видит — чёрные крестики встали друг на друга,
Гимнастическую фигуру составляют.
— Физкульт-привет, миру — мир! Можно, я с вами встану на минутку?
— Пожалуйста! Мы — тюремная
решётка. Присоединяйтесь.
— Извините, я тороплюсь.
***
Один крестик может одновременно: пожать руки сразу четырем избирателям, или снять четыре телефонные трубки, или снять две трубки и пожать руки двоим, или на приеме взять виски, шампанское, бутерброд с колбасой и сосиску, или указать народу одновременно четыре направления пути вперед.
***
Когда на крестиков были гонения, крестик купил тросточку.
И прикинулся пятиконечной звёздочкой…
— Найти структуру мира в распаде мира. Что произошло с нашей страной? Она была тюремной решёткой. Она распалась, и все думали, что появятся крестики, крестики, крестики. Я тоже так думал, да? Но распад произошёл иначе: где-то крестики, а где-то квадратики, то есть родился новый совковый элемент, который мы не учитывали, и вот от этого всё происходит. Теоретически мы думали: мы делаем эту революцию — либерализация, свобода. Но тут появилось новое чудовище, нам ещё непонятное, но посмотрим, что с этим чудовищем будет. Возвратимся к «Крестикам». Я думаю, важно знать структуру мира…
— Найти что-то вне политики?.. Вообще, собираетесь продолжать этот цикл?
— Конечно. Я вам подарю «Независимую газету». Здесь у меня есть полоса новых «Крестиков», посвящённых устрицам. В этом году была первая годовщина «Независимой газеты», юбилей, и они привезли из Парижа 26 000 устриц… В нашу голодную страну, причём, привезли с собой холодильники, приехали люди, которые открывали устриц. В общем, это было как распад Римской империи.
— Торжество чревоугодия на руинах империи?
— Да, да. И я написал такой устричный бал с эпиграфом якобы из классики «И дева стала раковиной»… Ну, я вам дам это, можете, если хотите, напечатать там у себя.
— Спасибо. Любопытно узнать, как Вы смотрите на переводы Вашей поэзии на другие языки в контексте Ваших же рассуждений — «В стихах прорывается непредвидимое» — и в связи с замечанием, что «набоковские стихи на английском, конечно, неудачны». Исходя из этого, подписались ли бы Вы под набоковским же английским четверостишием на эту банальную тему:
«What is translation? Om a platter
A poet’s pale and glaring head,
A parrot’s screech, a monkey’s chatter,
A profanation of the dead.
From «On translating „Eugene Onegin“», 1955
Что перевод есть? Расстегайчик
С начинкой из волос творца,
Словоохотный попугайчик,
Червяк в гостях у мертвеца.
(Из стихотворения «О переводе „Евгения Онегина“», 1955. Вольный перевод Леонида Александровского).
— Я согласен с собой, что поэзия непереводима. И в то же время — переводима все-таки.
— К автопереводу как относитесь? Себя на английский переводите?
— Нет. Я считаю, что тут нужно знать особые тонкости языка. У меня хороший, свободный английский, но пишу я по-русски. Было только одно английское стихотворение:
Murmaids
Has no AIDS
(Yeats)
— Йейтс — это случайно не классик «ирландского «возрождения»?
— Нет, это Йейтс — классик постмодернизма… В переводах я работаю с крупнейшими поэтами. В свое время Пастернак мне как-то сказал, когда его упрекали, что он неправильно перевёл Шекспира, где действительно вместо «яблока» он перевёл «сапог», ему это для рифмы нужно было, так вот, Пастернак сказал, что это неважно, важно, что Шекспир — гений и я — гений. А я работаю с такими поэтами, как У. Оден. Стенли Кьюнитц и А. Гинсберг. Они русского языка не знают, но им делает подстрочники профессор русского языка, и вместе мы добиваемся чего-то общего.
— В начале 70-х на Западе Вы с Аленом Гинсбергом принимали участие в благотворительном концерте в помощь Бангладеш, где читали Ваш из него перевод. Не тот ли это концерт, что был организован Дж. Харрисоном в 1971 году? И если да, встречались ли Вы с экс-битлами, ведь в концерте участвовал и Ринго Старр?
— Нет, это был не рок-концерт, а концерт поэтов. Пел там только Боб Дилан, а все остальные читали. Я, кстати, помню, мы с Диланом выступали и на ночном фестивале панк-музыки. Это было в Нью-Йорке. Начинался концерт в полночь и шёл до утра. Ну, все знают, что такое панк, вот, я там без перевода орал свои шлягеры. «Московские колокола» из «Мастеров», «Гойю» — звуковые вещи.
— Да, Вы еще про Хайдеггера писали, что он увлекся Вашей системой звука…
(Мартин Хайдеггер (1889−1976), немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма, современной философии пессимизма. — Ред.)
— Да, так вот, представляете — вся эта разъярённая панковая толпа, крепко разогретая, однако всё поняла без перевода…
— Кстати, как Вы относитесь к песенке Градского «Гойя»?
— Ну… Хорошо, хорошо, хотя думаю, к стихам она почти не имеет отношения.
— Известен Ваш видеом о Баркове. В связи с этим два вопроса: 1. Как Вы относитесь к использованию в художественной литературе ненормативной лексики и 2. Что Вы думаете о русской традиции обсценной литературы и, в частности, о произведениях Эдуарда Лимонова, Юза Алешковского и Венедикта Ерофеева?
(И.С.Барков (1732−1768), русский поэт, переводчик античных авторов, биограф Антиоха Кантемира. Наиболее известен своими талантливыми фривольными стихами. А. С. Пушкин писал, что первым проявлением падения цензуры в России будет публикация сборника стихов Баркова. — Ред.).
— Начнем с последнего, с Ерофеева. Конечно, Веничка — это гениально. Алешковский был очень интересен с первыми вещами.
— «Николай Николаевич»?
— Да, «Николай Николаевич» — лучшая вещь, наверное. Но я вам опять расскажу байку. С этой ненормативной лексикой я впервые столкнулся в Америке. Там на поэтических вечерах было сначала всего два слова.
— «Fuck» and «shit»?
— Да, «фак» энд «шит», а теперь оба эти слова вошли в светскую лексику.
— Без них ни один фильм не обходится.
— Да, а тогда сначала смотришь — аудитория вроде бы нормальная, выходит поэт и говорит: «Fuck, fuck, fuck!» и все хлопают и радуются. Через три года я приехал, уже все поэты говорили только: «Фак, фак, фак!», а один вдруг вышел и на дистиллированном оксфордском языке прочёл стихи… Это был шквал аплодисментов, то есть нормальный язык стал уже анти-стандартом. Так и Алешковский. Первый роман с такой лексикой был прекрасен, а все остальные вещи — уже… У Лимонова хорош «Эдичка», причём не только лексикой…
— Роман в жанре «action»?
— Да (смеется). Но это — личность, это какая-то современная Манон Леско, это его зависть, его крик…
— Современные «Парижские тайны»… А как Вы относитесь к его назначению министром обороны у Жириновского?
— Ну, я думаю, это просто личность такая. Если бы сейчас была современная контрреволюция, он бы и туда пришёл. Он… как бы экспериментирует, ставит себя в разные ситуации.
— Известен Ваш интерес к живописи XX века. Ваши встречи с Шагалом и Пикассо, совместная работа с Раушенбергом принесли ценные художественные результаты. Какое имя из калейдоскопа гениев сродни определяющим моментам Вашей поэтики более остальных?
— Увы. я вам скажу опять реакционную вещь. Когда-то здесь, в Академгородке, была выставка Филонова. Он остаётся ещё неоткрытым феноменом для Запада. Филонов — полная параллель гениальным Хлебникову и Заболоцкому.
— У него есть иллюстрации к Хлебникову.
— Да, да, это очень интересно, хотя сам я, конечно же, работаю уже в пост-поп-арте.
— У Вас совершенное смешение стилей.
— Да, но вот глубина Филонова остается пока совершенно нераскрытой, и там есть тайны, тогда как Раушенберг и Дж. Джонс — они понятны.
— Поп-арт классический…
— Тогда как здесь, у Филонова… Всё-таки искусство должно быть загадкой.
— Кстати, а как Вам Хлебников?
— Ну… Гений всегда… Но вы посмотрите ещё Кручёных (Алексей Кручёных — поэт-футурист. — Ред.), очень интересен.
— Читали парочку его стихов. Но его почему-то совсем мало.
— Да, он мало написал. Сейчас у вас, в Новосибирске, один меценат начал издавать серию элитарной поэзии, выйдет 30 книжек, в том числе и Хлебников. Я посоветовал ему включить в серию и Кручёных.
— У Хлебникова недавно вышел большой том «Творения».
— Да, но лучше издавать всё-таки маленькие сборники… Так, ну последние два вопроса.
— Ваше отношение к массовой культуре и о её балансе с культурой элитарной. Согласны ли Вы с мнением многих теоретиков, что масскультура — значительное явление само по себе?
— Политика не имеет значения…
— Так вот, XX век — прежде всего авангард. Умирает век. и теперь это уже совершенно очевидно: ничего, кроме авангарда, он не дал.
— Авангардное в смысле антиклассическое?..
— Антиклассическое, взрывное, агрессивность, все ее плюсы и минусы, фашизм и коммунизм — всё здесь намешано, но это наше время потому и — «Облако», независимо от того, кем стал потом партийный Маяковский. Оно ведь и работало позже и против партийности, ибо художник выше, чем политика.
— Андрей Андреевич, скажите, Ваш замечательный «крестиковый эпос» — попытка найти элементарную структурную доминанту в «рапсодии распада» современности или только серия изящных постмодернистских этюдов об авантюрных похождениях и превращениях религиозного знака в бредовой действительности?
(Фрагменты «Из жизни крестиков» Андрея Вознесенского):
Шел крестик по дорожке.
Видит, толпа крестиков на ветке.
— Вы районное совещание крестиков?
— Нет, мы — сирень.
Загрустил крестик. Только
развёл руками. Пошёл дальше.
Идёт, видит — чёрные крестики встали друг на друга,
Гимнастическую фигуру составляют.
— Физкульт-привет, миру — мир! Можно, я с вами встану на минутку?
— Пожалуйста! Мы — тюремная
решётка. Присоединяйтесь.
— Извините, я тороплюсь.
***
Один крестик может одновременно: пожать руки сразу четырем избирателям, или снять четыре телефонные трубки, или снять две трубки и пожать руки двоим, или на приеме взять виски, шампанское, бутерброд с колбасой и сосиску, или указать народу одновременно четыре направления пути вперед.
***
Когда на крестиков были гонения, крестик купил тросточку.
И прикинулся пятиконечной звёздочкой…
— Найти структуру мира в распаде мира. Что произошло с нашей страной? Она была тюремной решёткой. Она распалась, и все думали, что появятся крестики, крестики, крестики. Я тоже так думал, да? Но распад произошёл иначе: где-то крестики, а где-то квадратики, то есть родился новый совковый элемент, который мы не учитывали, и вот от этого всё происходит. Теоретически мы думали: мы делаем эту революцию — либерализация, свобода. Но тут появилось новое чудовище, нам ещё непонятное, но посмотрим, что с этим чудовищем будет. Возвратимся к «Крестикам». Я думаю, важно знать структуру мира…
— Найти что-то вне политики?.. Вообще, собираетесь продолжать этот цикл?
— Конечно. Я вам подарю «Независимую газету». Здесь у меня есть полоса новых «Крестиков», посвящённых устрицам. В этом году была первая годовщина «Независимой газеты», юбилей, и они привезли из Парижа 26 000 устриц… В нашу голодную страну, причём, привезли с собой холодильники, приехали люди, которые открывали устриц. В общем, это было как распад Римской империи.
— Торжество чревоугодия на руинах империи?
— Да, да. И я написал такой устричный бал с эпиграфом якобы из классики «И дева стала раковиной»… Ну, я вам дам это, можете, если хотите, напечатать там у себя.
— Спасибо. Любопытно узнать, как Вы смотрите на переводы Вашей поэзии на другие языки в контексте Ваших же рассуждений — «В стихах прорывается непредвидимое» — и в связи с замечанием, что «набоковские стихи на английском, конечно, неудачны». Исходя из этого, подписались ли бы Вы под набоковским же английским четверостишием на эту банальную тему:
«What is translation? Om a platter
A poet’s pale and glaring head,
A parrot’s screech, a monkey’s chatter,
A profanation of the dead.
From «On translating „Eugene Onegin“», 1955
Что перевод есть? Расстегайчик
С начинкой из волос творца,
Словоохотный попугайчик,
Червяк в гостях у мертвеца.
(Из стихотворения «О переводе „Евгения Онегина“», 1955. Вольный перевод Леонида Александровского).
— Я согласен с собой, что поэзия непереводима. И в то же время — переводима все-таки.
— К автопереводу как относитесь? Себя на английский переводите?
— Нет. Я считаю, что тут нужно знать особые тонкости языка. У меня хороший, свободный английский, но пишу я по-русски. Было только одно английское стихотворение:
Murmaids
Has no AIDS
(Yeats)
— Йейтс — это случайно не классик «ирландского «возрождения»?
— Нет, это Йейтс — классик постмодернизма… В переводах я работаю с крупнейшими поэтами. В свое время Пастернак мне как-то сказал, когда его упрекали, что он неправильно перевёл Шекспира, где действительно вместо «яблока» он перевёл «сапог», ему это для рифмы нужно было, так вот, Пастернак сказал, что это неважно, важно, что Шекспир — гений и я — гений. А я работаю с такими поэтами, как У. Оден. Стенли Кьюнитц и А. Гинсберг. Они русского языка не знают, но им делает подстрочники профессор русского языка, и вместе мы добиваемся чего-то общего.
— В начале 70-х на Западе Вы с Аленом Гинсбергом принимали участие в благотворительном концерте в помощь Бангладеш, где читали Ваш из него перевод. Не тот ли это концерт, что был организован Дж. Харрисоном в 1971 году? И если да, встречались ли Вы с экс-битлами, ведь в концерте участвовал и Ринго Старр?
— Нет, это был не рок-концерт, а концерт поэтов. Пел там только Боб Дилан, а все остальные читали. Я, кстати, помню, мы с Диланом выступали и на ночном фестивале панк-музыки. Это было в Нью-Йорке. Начинался концерт в полночь и шёл до утра. Ну, все знают, что такое панк, вот, я там без перевода орал свои шлягеры. «Московские колокола» из «Мастеров», «Гойю» — звуковые вещи.
— Да, Вы еще про Хайдеггера писали, что он увлекся Вашей системой звука…
(Мартин Хайдеггер (1889−1976), немецкий философ, один из основоположников немецкого экзистенциализма, современной философии пессимизма. — Ред.)
— Да, так вот, представляете — вся эта разъярённая панковая толпа, крепко разогретая, однако всё поняла без перевода…
— Кстати, как Вы относитесь к песенке Градского «Гойя»?
— Ну… Хорошо, хорошо, хотя думаю, к стихам она почти не имеет отношения.
— Известен Ваш видеом о Баркове. В связи с этим два вопроса: 1. Как Вы относитесь к использованию в художественной литературе ненормативной лексики и 2. Что Вы думаете о русской традиции обсценной литературы и, в частности, о произведениях Эдуарда Лимонова, Юза Алешковского и Венедикта Ерофеева?
(И.С.Барков (1732−1768), русский поэт, переводчик античных авторов, биограф Антиоха Кантемира. Наиболее известен своими талантливыми фривольными стихами. А. С. Пушкин писал, что первым проявлением падения цензуры в России будет публикация сборника стихов Баркова. — Ред.).
— Начнем с последнего, с Ерофеева. Конечно, Веничка — это гениально. Алешковский был очень интересен с первыми вещами.
— «Николай Николаевич»?
— Да, «Николай Николаевич» — лучшая вещь, наверное. Но я вам опять расскажу байку. С этой ненормативной лексикой я впервые столкнулся в Америке. Там на поэтических вечерах было сначала всего два слова.
— «Fuck» and «shit»?
— Да, «фак» энд «шит», а теперь оба эти слова вошли в светскую лексику.
— Без них ни один фильм не обходится.
— Да, а тогда сначала смотришь — аудитория вроде бы нормальная, выходит поэт и говорит: «Fuck, fuck, fuck!» и все хлопают и радуются. Через три года я приехал, уже все поэты говорили только: «Фак, фак, фак!», а один вдруг вышел и на дистиллированном оксфордском языке прочёл стихи… Это был шквал аплодисментов, то есть нормальный язык стал уже анти-стандартом. Так и Алешковский. Первый роман с такой лексикой был прекрасен, а все остальные вещи — уже… У Лимонова хорош «Эдичка», причём не только лексикой…
— Роман в жанре «action»?
— Да (смеется). Но это — личность, это какая-то современная Манон Леско, это его зависть, его крик…
— Современные «Парижские тайны»… А как Вы относитесь к его назначению министром обороны у Жириновского?
— Ну, я думаю, это просто личность такая. Если бы сейчас была современная контрреволюция, он бы и туда пришёл. Он… как бы экспериментирует, ставит себя в разные ситуации.
— Известен Ваш интерес к живописи XX века. Ваши встречи с Шагалом и Пикассо, совместная работа с Раушенбергом принесли ценные художественные результаты. Какое имя из калейдоскопа гениев сродни определяющим моментам Вашей поэтики более остальных?
— Увы. я вам скажу опять реакционную вещь. Когда-то здесь, в Академгородке, была выставка Филонова. Он остаётся ещё неоткрытым феноменом для Запада. Филонов — полная параллель гениальным Хлебникову и Заболоцкому.
— У него есть иллюстрации к Хлебникову.
— Да, да, это очень интересно, хотя сам я, конечно же, работаю уже в пост-поп-арте.
— У Вас совершенное смешение стилей.
— Да, но вот глубина Филонова остается пока совершенно нераскрытой, и там есть тайны, тогда как Раушенберг и Дж. Джонс — они понятны.
— Поп-арт классический…
— Тогда как здесь, у Филонова… Всё-таки искусство должно быть загадкой.
— Кстати, а как Вам Хлебников?
— Ну… Гений всегда… Но вы посмотрите ещё Кручёных (Алексей Кручёных — поэт-футурист. — Ред.), очень интересен.
— Читали парочку его стихов. Но его почему-то совсем мало.
— Да, он мало написал. Сейчас у вас, в Новосибирске, один меценат начал издавать серию элитарной поэзии, выйдет 30 книжек, в том числе и Хлебников. Я посоветовал ему включить в серию и Кручёных.
— У Хлебникова недавно вышел большой том «Творения».
— Да, но лучше издавать всё-таки маленькие сборники… Так, ну последние два вопроса.
— Ваше отношение к массовой культуре и о её балансе с культурой элитарной. Согласны ли Вы с мнением многих теоретиков, что масскультура — значительное явление само по себе?
— Конечно. Но что называть масскультурой? Масскультура — это демократичность. Возьмите, например, рекламу. Она и есть масскультура.
— Мы сами занимаемся рекламой.
— В ней, в рекламе, кстати, и Сальвадор Дали, который занимался рекламой витрин. Все это входит в быт, это — искусство хэппенинга среди нас.
(Сальвадор Дали (1904 — 1989) — великий испанский художник, классик сюрреализма. Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс — американские художники, классики поп- арта. Хэппенинг — здесь: акт спонтанного, импровизационного творчества. — Ред).
— Ваша с Рыбниковым рок-опера, написанное Вами предисловие к «Рок-энциклопедии», дружба с Б. Гребенщиковым и Б. Диланом — все это красноречиво свидетельствует, что рок-музыка входит в круг Вашего внимания. Какие стили и имена интересуют Вас в рок-культуре отечественной и зарубежной?
— Поскольку мы торопимся, я вам скажу так: меня интересует сейчас не та рок-культура. которая есть, но я всё время мечтаю, что появится настоящий русский рок, которого пока всё-таки ещё нет, понимаете, даже мой любимый Гребенщиков, когда вышел в Нью-Йорке, он там почти ничего не добился.
— Потому что наш рок в основном текстовый…
— Вот и я думаю, надеюсь, что должен появиться гений русского рока, которого ещё не было. Может быть, ваше поколение, ваша гимназия и даст его…
— Мы сами занимаемся рекламой.
— В ней, в рекламе, кстати, и Сальвадор Дали, который занимался рекламой витрин. Все это входит в быт, это — искусство хэппенинга среди нас.
(Сальвадор Дали (1904 — 1989) — великий испанский художник, классик сюрреализма. Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс — американские художники, классики поп- арта. Хэппенинг — здесь: акт спонтанного, импровизационного творчества. — Ред).
— Ваша с Рыбниковым рок-опера, написанное Вами предисловие к «Рок-энциклопедии», дружба с Б. Гребенщиковым и Б. Диланом — все это красноречиво свидетельствует, что рок-музыка входит в круг Вашего внимания. Какие стили и имена интересуют Вас в рок-культуре отечественной и зарубежной?
— Поскольку мы торопимся, я вам скажу так: меня интересует сейчас не та рок-культура. которая есть, но я всё время мечтаю, что появится настоящий русский рок, которого пока всё-таки ещё нет, понимаете, даже мой любимый Гребенщиков, когда вышел в Нью-Йорке, он там почти ничего не добился.
— Потому что наш рок в основном текстовый…
— Вот и я думаю, надеюсь, что должен появиться гений русского рока, которого ещё не было. Может быть, ваше поколение, ваша гимназия и даст его…
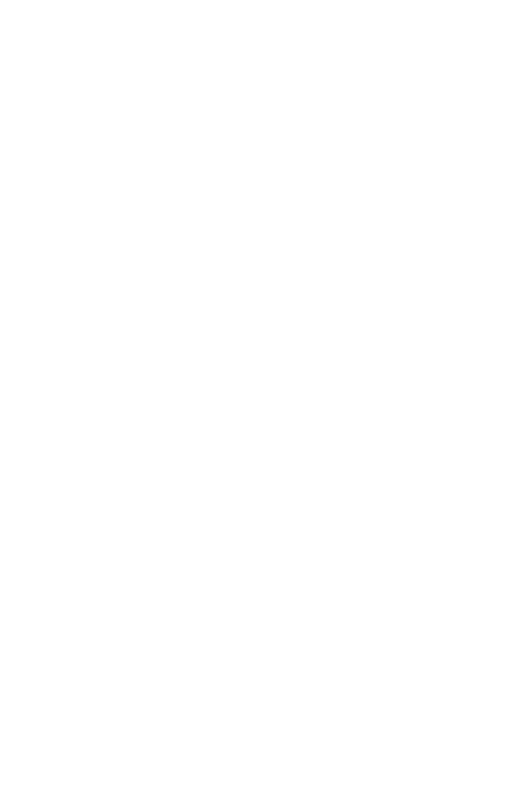
«Все мы учились понемногу»…
Рассказывает Виктор Игоревич Ершов
Мне повезло, я учился в советской школе, а доучивался в российской. И без дураков сполна получил всё лучшее от обоих вариантов. Посудите сами: в одной — полное равенство всех перед системой, одинаковая форма, одинаковый со всех спрос. Я, вот только став взрослым, узнал, насколько плотно в своей английской спецшколе был окружён детьми выдающихся руководителей партии, заводов, ресторанов и т. д. И жили-то мы все плюс минус одинаково, ну кто-то посытнее, с машиной, с дачей побольше соседских, а так — одинаковые оболтусы в одних и тех же дворах, правда, в центре, пусть и в коммуналке с соседями, зато двор и школа тоже общие.
В общем, быть как все, в престижной школе мне нравилось, а учиться нет. И чем старше становился, тем меньше и меньше.
В общем, быть как все, в престижной школе мне нравилось, а учиться нет. И чем старше становился, тем меньше и меньше.
Зато я много читал, запойно, без разбора. И когда перенесли библиотеку в бывший кабинет истории, а на месте прежней организовали качалку, я стал завсегдатаем обоих кабинетов. Тем более что в библиотеке сменилась хозяйка — пришла молодая и красивая библиотекарша. И я со своими друзьями, двумя такими же шалопаями, Серёгой и Митькой, прописался там вместо уроков.
И кому-то из нас в лаборантской — маленькой каморке бывшего класса, пришла идея устроить литературную гостиную для учителей и старшеклассников. Митька утверждает, что это была его идея, я — что моя, ну, да ему, прожжённому ресторатору, теперь кажется, что так было всегда. И вот под сурдинку, испросив разрешения у начальства, стали мы в этот клуб стаскивать всё, что плохо лежало — кресла, журнальные столики, телевизоры…
Иной раз прямо во время урока заходили с серьёзным видом и, сославшись на завуча, уносили нужную нам вещь.
В общем, на фоне стремительно падающей успеваемости такие действия не могли остаться незамеченными, так что после восьмого класса нас из школы вежливо попросили выйти вон.
А страшно было покидать тепличные стены!
И кому-то из нас в лаборантской — маленькой каморке бывшего класса, пришла идея устроить литературную гостиную для учителей и старшеклассников. Митька утверждает, что это была его идея, я — что моя, ну, да ему, прожжённому ресторатору, теперь кажется, что так было всегда. И вот под сурдинку, испросив разрешения у начальства, стали мы в этот клуб стаскивать всё, что плохо лежало — кресла, журнальные столики, телевизоры…
Иной раз прямо во время урока заходили с серьёзным видом и, сославшись на завуча, уносили нужную нам вещь.
В общем, на фоне стремительно падающей успеваемости такие действия не могли остаться незамеченными, так что после восьмого класса нас из школы вежливо попросили выйти вон.
А страшно было покидать тепличные стены!
Когда на протяжении восьми лет внушали, что по месту жительства тебя ждёт школа для дураков, если не станешь прилежным в учёбе — сами понимаете. Моих бесстрашных товарищей ждали техникумы, а меня спас двигатель торговли.
В метро начало вещание этакое метро-радио, называлось оно «Рекламная группа Инфо-М». С таким левитаноподобным диктором. В нашей истории этот голос сыграл решающую роль. Папа спустился в метро ровно в тот момент, когда над перроном прогремело: «Гимназия объявляет набор мальчиков в девятый гуманитарный класс». По-видимому, дефицит у них с мальчишками сложился. Ну, я пришёл и поступил — начитанность помогла.
И тут началось счастье! Учиться стало некогда, но никто за это не ругал особо, а даже, можно сказать поощряли. Один из руководителей издательства «Советская Сибирь», чья дочь не слишком успешно училась в этой гимназии, предложил директору свои услуги в печатании тиража школьной газеты, по-взрослому, на офсете, как всамделишную прессу, как «Известия» или «Правду»… А в амбициозной гимназии свою газету издавать уже планировали. Ну и понятно, что делать её поручили нам — свеженабранным гуманитариям старшеклассникам.
В метро начало вещание этакое метро-радио, называлось оно «Рекламная группа Инфо-М». С таким левитаноподобным диктором. В нашей истории этот голос сыграл решающую роль. Папа спустился в метро ровно в тот момент, когда над перроном прогремело: «Гимназия объявляет набор мальчиков в девятый гуманитарный класс». По-видимому, дефицит у них с мальчишками сложился. Ну, я пришёл и поступил — начитанность помогла.
И тут началось счастье! Учиться стало некогда, но никто за это не ругал особо, а даже, можно сказать поощряли. Один из руководителей издательства «Советская Сибирь», чья дочь не слишком успешно училась в этой гимназии, предложил директору свои услуги в печатании тиража школьной газеты, по-взрослому, на офсете, как всамделишную прессу, как «Известия» или «Правду»… А в амбициозной гимназии свою газету издавать уже планировали. Ну и понятно, что делать её поручили нам — свеженабранным гуманитариям старшеклассникам.
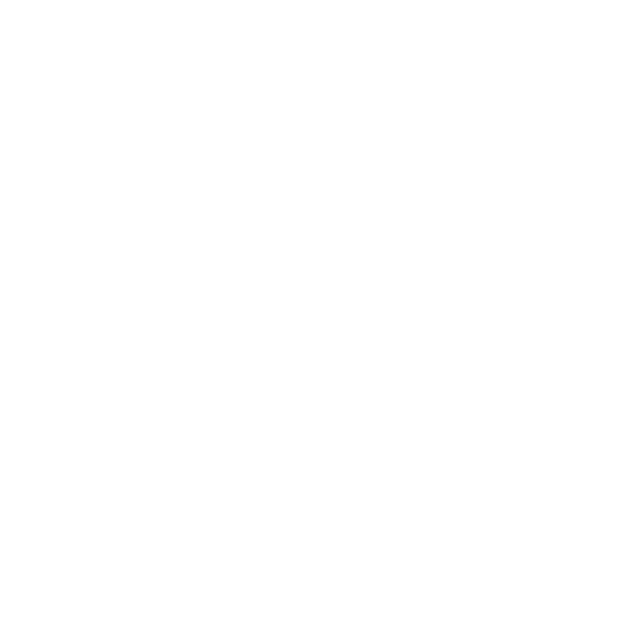
Виктор Ершов
2020
Я стал там главным художником, друг мой Лёнька — замом главного редактора — преподавателя истории зарубежной литературы. Ещё в редакции были две девочки и высокорослый наш одноклассник, вдумчивый и ужасно рассеянный Рома — он у всех учителей потом интервью брал.
И — поехали! Наша многополоска «Ярило» вызвала фурор не только среди учителей, учеников и их родителей — её с гордостью демонстрировали на всех чиновничьих и общественных уровнях, включая Городской и Областной отделы народного образования, так, что даже руководство предыдущей школы стало намекать на моё возвращение в родные стены — нашли дурака! Ведь я занимался теперь любимым делом — креативом на планёрках и рисовал, рисовал, а нелюбимым делом учёбы, наоборот, не занимался, некогда было.
Газета выходила регулярно, примерно раз в полтора месяца, то есть девять номеров в год — по числу учебных месяцев. И там, где знания очевидно демонстрировали двойки, нам натягивали троечку, впрочем, по профилю было строго — историю, иностранный язык, литературу мы грызли на отлично. В общем, как у Пушкина в лицее:
— Чему равен икс?
— Нулю.
— Всё у вас, Пушкин, в математике равно нулю, идите и пишите стихи лучше.
Наступили первые летние каникулы. Звонит Лёнька.
— Вознесенский приезжает! В Дом Учёных! Я через деда договорился о контрамарках и, возможно, нас с ним организатор познакомит — об интервью договоримся!..
Ну что, круто! Едем, конечно! Берём подшивку газет, едем на концерт. Понравилось. Запомнился диалог двух солидного учёного вида мужчин в фойе:
— Ну и как вам поэзия?
— Не знаю, не уверен, что понравилось.
— Так он же сам сказал: «Какое время на дворе, таков мессия».
Это Вознесенский из своего оптимистического реквиема на клиническую смерть Высоцкого процитировал.
Встретились за кулисами с самим поэтом. Был радушен, взял газеты, обещал почитать и договорились с ним насчет интервью на завтрашнее утро.
Вернулись в город — дома звонок. Рома, штатный интервьюер, пронюхал о завтрашней беседе с Андреем Андреевичем и в компанию набивается. Тем более диктофон — его собственность. Тут меня злость взяла, куда ещё тебе, думаю. Ты же ничего, как и я, в современной поэзии не смыслишь, но я хотя бы друг Лёнькин, который без дураков большой фанат Вознесенского, даже в подражание ему свои вирши строчит. Ну и чем ты нам там будешь полезен, спрашиваю? А у меня фотоаппарат профессиональный, зеркалка, есть, отвечает, буду фоткать.
Аргумент! Ладно, поехали. Ранним утром опять звонок от Романа. Спрашивает: Витя, как ты думаешь, а вспышку брать? Бери, говорю, мало ли что с погодой. А Рома, надо отметить, парень был тихушный, себе на уме и, как бы это помягче выразится, — слегка подтормаживал, увлечённый глубиной собственных мыслей, что становилось для нас предметом многочисленных шуток и подколов.
Вот, сидит он как-то в библиотеке с одноклассником, а часы, помните такие электронные, в деревянном корпусе, с зелёными лампочками пикселями, показывают 17−77, сломались. Одноклассник толкает Рому локтем: «Смотри 77 минут шестого!». Рома сгребает конспекты и книги и со словами: «Ой, блин, они же в шесть закрываются!» выбегает из зала.
Ну ладно, едем мы, стало быть, на встречу с поэтом в автобусе и уже подъезжаем к Академгородку, тут Лёня в шутку интересуется:
— Рома, ты фотик-то взял?.
Удивлённый встречный взгляд:
— Нет, только вспышку.
И вот в сопровождении двух бесполезных спутников со вспышкой Лёня двинулся на историческую встречу.
Вознесенский встретил нас на улице возле гостиницы, в лёгком спортивном костюме, раскрасневшийся после пробежки, и предложил прогуляться до ближайшей скамейки. Уселись рядком и — потекла беседа двух блистательных интеллектуалов о любви к поэзии, литературе вообще и ненормативной лексике в ней в частности. А тогда, напомню, впервые за всю историю государства Российского вырвавшись из-под цензурного гнёта, наша культура начала активно сквернословить по поводу и без. Лёня поинтересовался у мэтра, надолго ли этот тренд.
— Это пойдёт на спад, — решительно заявил Вознесенский. Так было в Америке в 70-х, тогда тоже стало модным сквернословить со сцены, что ни стендап, то фак-фак-фак. А сейчас подуспокоилось, вот и у нас утихнет. Но судя по популярности Шнура, Дудя и русских рэперов, тут поэт оказался не очень прозорлив.
Когда через час примерно беседа закончилась, Андрей Андреевич вручил нам по маленькой книжке с дарственными надписями, нарисовал авторучкой остроумный автопортрет с пожеланиями редакции и пошёл к себе в номер. Мы вернулись в город, расшифровывать диктофонную запись.
Прошёл год. Встреча стала постепенно забываться, отходя на задний план под вихрем бурной творческой школьной жизни. Как вдруг однажды любимая учительница литературы начинает урок на торжественной ноте:
— Дорогие Лёня, Витя и Рома! Сегодня из ГОРОНО нам передали сентябрьский номер журнала «Столица». В нём выдающийся поэт современности Андрей Вознесенский напечатал стихотворение, написанное им под впечатлением от летней встречи с вами. Несколько месяцев чиновники не отваживались передать нам этот журнал, поскольку вместе с ним он послал на адрес ГОРОНО, не зная адреса гимназии, ещё и плакат, посвящённый творчеству скандально известного классика «подпольной» русской литературы Ивана Баркова! И вот сейчас, они приняли соломоново решение — плакат оставили себе, а журнал передали нам. Спустя некоторое время, увидев этот плакат напечатанным в Огоньке, я понял колебания чиновников. Плакат, или, как называл свои тексто-графические эксперименты сам Вознесенский, «видеом», был посвящён главному поэту-матерщиннику восемнадцатого века, точнее легенде о его кончине.
Легенда и в самом деле и грешна, и смешна, и непристойна, так что спустя тридцать лет я вполне могу понять и извинить чиновников, тем более что журнал-то со стихами, нам посвященными, они передали по принадлежности.
А лично меня вся эта история научила одной истине: для того, чтобы попасть в Историю, вовсе необязательно самому что-то собой представлять, — достаточно держаться людей посильнее и поумнее тебя и оказываться вместе с ними в нужное время в нужном месте!
И — поехали! Наша многополоска «Ярило» вызвала фурор не только среди учителей, учеников и их родителей — её с гордостью демонстрировали на всех чиновничьих и общественных уровнях, включая Городской и Областной отделы народного образования, так, что даже руководство предыдущей школы стало намекать на моё возвращение в родные стены — нашли дурака! Ведь я занимался теперь любимым делом — креативом на планёрках и рисовал, рисовал, а нелюбимым делом учёбы, наоборот, не занимался, некогда было.
Газета выходила регулярно, примерно раз в полтора месяца, то есть девять номеров в год — по числу учебных месяцев. И там, где знания очевидно демонстрировали двойки, нам натягивали троечку, впрочем, по профилю было строго — историю, иностранный язык, литературу мы грызли на отлично. В общем, как у Пушкина в лицее:
— Чему равен икс?
— Нулю.
— Всё у вас, Пушкин, в математике равно нулю, идите и пишите стихи лучше.
Наступили первые летние каникулы. Звонит Лёнька.
— Вознесенский приезжает! В Дом Учёных! Я через деда договорился о контрамарках и, возможно, нас с ним организатор познакомит — об интервью договоримся!..
Ну что, круто! Едем, конечно! Берём подшивку газет, едем на концерт. Понравилось. Запомнился диалог двух солидного учёного вида мужчин в фойе:
— Ну и как вам поэзия?
— Не знаю, не уверен, что понравилось.
— Так он же сам сказал: «Какое время на дворе, таков мессия».
Это Вознесенский из своего оптимистического реквиема на клиническую смерть Высоцкого процитировал.
Встретились за кулисами с самим поэтом. Был радушен, взял газеты, обещал почитать и договорились с ним насчет интервью на завтрашнее утро.
Вернулись в город — дома звонок. Рома, штатный интервьюер, пронюхал о завтрашней беседе с Андреем Андреевичем и в компанию набивается. Тем более диктофон — его собственность. Тут меня злость взяла, куда ещё тебе, думаю. Ты же ничего, как и я, в современной поэзии не смыслишь, но я хотя бы друг Лёнькин, который без дураков большой фанат Вознесенского, даже в подражание ему свои вирши строчит. Ну и чем ты нам там будешь полезен, спрашиваю? А у меня фотоаппарат профессиональный, зеркалка, есть, отвечает, буду фоткать.
Аргумент! Ладно, поехали. Ранним утром опять звонок от Романа. Спрашивает: Витя, как ты думаешь, а вспышку брать? Бери, говорю, мало ли что с погодой. А Рома, надо отметить, парень был тихушный, себе на уме и, как бы это помягче выразится, — слегка подтормаживал, увлечённый глубиной собственных мыслей, что становилось для нас предметом многочисленных шуток и подколов.
Вот, сидит он как-то в библиотеке с одноклассником, а часы, помните такие электронные, в деревянном корпусе, с зелёными лампочками пикселями, показывают 17−77, сломались. Одноклассник толкает Рому локтем: «Смотри 77 минут шестого!». Рома сгребает конспекты и книги и со словами: «Ой, блин, они же в шесть закрываются!» выбегает из зала.
Ну ладно, едем мы, стало быть, на встречу с поэтом в автобусе и уже подъезжаем к Академгородку, тут Лёня в шутку интересуется:
— Рома, ты фотик-то взял?.
Удивлённый встречный взгляд:
— Нет, только вспышку.
И вот в сопровождении двух бесполезных спутников со вспышкой Лёня двинулся на историческую встречу.
Вознесенский встретил нас на улице возле гостиницы, в лёгком спортивном костюме, раскрасневшийся после пробежки, и предложил прогуляться до ближайшей скамейки. Уселись рядком и — потекла беседа двух блистательных интеллектуалов о любви к поэзии, литературе вообще и ненормативной лексике в ней в частности. А тогда, напомню, впервые за всю историю государства Российского вырвавшись из-под цензурного гнёта, наша культура начала активно сквернословить по поводу и без. Лёня поинтересовался у мэтра, надолго ли этот тренд.
— Это пойдёт на спад, — решительно заявил Вознесенский. Так было в Америке в 70-х, тогда тоже стало модным сквернословить со сцены, что ни стендап, то фак-фак-фак. А сейчас подуспокоилось, вот и у нас утихнет. Но судя по популярности Шнура, Дудя и русских рэперов, тут поэт оказался не очень прозорлив.
Когда через час примерно беседа закончилась, Андрей Андреевич вручил нам по маленькой книжке с дарственными надписями, нарисовал авторучкой остроумный автопортрет с пожеланиями редакции и пошёл к себе в номер. Мы вернулись в город, расшифровывать диктофонную запись.
Прошёл год. Встреча стала постепенно забываться, отходя на задний план под вихрем бурной творческой школьной жизни. Как вдруг однажды любимая учительница литературы начинает урок на торжественной ноте:
— Дорогие Лёня, Витя и Рома! Сегодня из ГОРОНО нам передали сентябрьский номер журнала «Столица». В нём выдающийся поэт современности Андрей Вознесенский напечатал стихотворение, написанное им под впечатлением от летней встречи с вами. Несколько месяцев чиновники не отваживались передать нам этот журнал, поскольку вместе с ним он послал на адрес ГОРОНО, не зная адреса гимназии, ещё и плакат, посвящённый творчеству скандально известного классика «подпольной» русской литературы Ивана Баркова! И вот сейчас, они приняли соломоново решение — плакат оставили себе, а журнал передали нам. Спустя некоторое время, увидев этот плакат напечатанным в Огоньке, я понял колебания чиновников. Плакат, или, как называл свои тексто-графические эксперименты сам Вознесенский, «видеом», был посвящён главному поэту-матерщиннику восемнадцатого века, точнее легенде о его кончине.
Легенда и в самом деле и грешна, и смешна, и непристойна, так что спустя тридцать лет я вполне могу понять и извинить чиновников, тем более что журнал-то со стихами, нам посвященными, они передали по принадлежности.
А лично меня вся эта история научила одной истине: для того, чтобы попасть в Историю, вовсе необязательно самому что-то собой представлять, — достаточно держаться людей посильнее и поумнее тебя и оказываться вместе с ними в нужное время в нужном месте!
